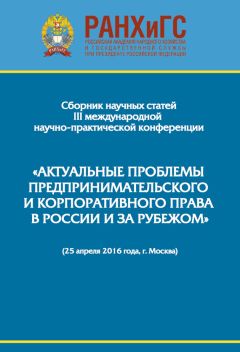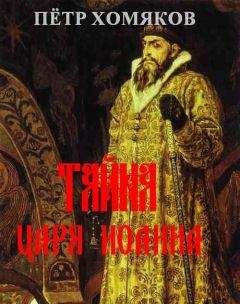Борис Тарасов - А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист. Т. 1
Столь резкие и эмоциональные высказывания графини в гротескной форме отражают реальное восприятие Хомякова и славянофилов немалой частью русской интеллигенции того времени. У М. А. Дмитриева не было никакого повода испытывать к поэту чувство личной обиды. Даже не затрагивая «антипатриотических» стихов Хомякова, он судил о нем весьма строго, противопоставляя ему И. В. Киреевского (который «всех скромнее и воздержаннее в речах, всех основательнее и рассудительнее в этом кружке»[138]):
Лучшее в нем было то, что он имел несомненный талант к поэзии. Он знал много иностранных языков и мог бы быть одним из просвещеннейших людей, если бы захотел употребить на дело свои сведения, которых у него было много. Но он нахватал их самоучкой, без всякой системы, и не был привязан основательно ни к одной части знания, а хотел быть всё: и поэт, и антикварий, и богослов, и гомеопат, и механик, и живописец, и философ, и агроном, и политик, и великий постник, и даже собачий охотник; говорил и спорил обо всем и со всеми и не успел сделать и написать почти ничего, а имение оставил в расстройстве. За беспрестанным движением языка ему некогда было остановиться, помолчать и подумать: легкомысленная погоня за эфемерною известностию не давала ему покоя и поглощала все его способности. Вся его цель была, кажется, прославление имени своего чем бы то ни было, одним словом, шарлатанство, которым всего скорее получишь у нас славу и уважение. Но этот второй способ дешевой известности допускается у нас, однако, под условием взаимного восхваления. Хомяков понимал это мастерски: он поддерживал своими неистощимыми спорами партию славянофилов, Аксакова с братиею, которые и не замечали в своей невинности, что они же становятся его орудием, и превозносили в нем универсального гения, маленького Pico della Mirandola![139]
С такой критической, но выраженной в иной тональности оценкой пишет о Хомякове Александр Васильевич Никитенко. В своем «Дневнике» 20 января 1856 года он записывает:
Познакомился на вечере у министра с одним из коноводов московских славянофилов, Хомяковым. Он явился в зало министра в армяке, без галстука, в красной рубашке с косым воротником и с шапкой-мурмулкой под мышкой. Говорил неумолкно и большей частью по-французски – как и следует представителю русской народности. Встреча его со мной была несколько натянута, ибо он не без основания подозревает во мне западника. Но я поспешил бросить себе и ему под ноги доску, на которой мы могли легко сойтись. Он приехал сюда хлопотать о разрешении ему издавать славянофильский журнал, и я обратился прямо к этому предмету, сказав, что ничего не может быть желательнее, как чтобы каждый имел возможность высказывать свои убеждения. Это тотчас развязало нам языки, и мы пустились рассуждать, не опасаясь где-нибудь столкнуться лбами. Он умен, но, кажется, не без того, что называется себе на уме[140].
Слегка ироничный отзыв Никитенко заставляет все же думать, что резкие высказывания гр. Е. П. Ростопчиной и М. А. Дмитриева были не совсем беспочвенны; в поведении Хомякова действительно наличествовали элементы эксцентричности, нарочитого фрондерства, а его мысли и формы их выражения не всегда представляли собой образец голубиной простоты.
Сам Хомяков подтверждает это предположение. В письме к графине Блудовой он признается: «Разумеется, если б можно было думать о печати, я сказал бы, что слова “И игом рабства клеймена” (слишком резко определяющие крепостное состояние) можно заменить “И двоедушьем клеймена”. Также поставить другое – на место “всякой мерзости полна”. <…> Во всяком случае надеюсь, что вы признаете, что я говорю не по духу эгоистического фрондерства»[141].
То, что от его стихов веет именно «духом эгоистического фрондерства» Хомяков, очевидно, догадывался. От Блудовой он ожидал слов, успокаивающих его встревоженную совесть.
Аналогичной поддержки ждала и Ростопчина от А. В. Дружинина («Скажите, скажите, ошибаюсь ли я? <…> Дайте мне голос правды в этой тревоге ума и сердца, слишком сильной для женской слабости!»).
Эксцентричность, фрондерство и эпатаж на самом деле были не совсем чужды обоим поэтам. О хомяковской мурмолке и «грязной руке» уже было говорено[142]. Различные письма Хомякова, в которых он разносит в пух и прах историков, филологов, медиков, дает советы в области политики и военной тактики, возможно, верные и бескорыстные, в своей совокупности способны оставить ощущение некоторого самолюбования[143]. Не приходится забывать и о его не лишенной амбициозности мистификации – намерении выдать свою статью «Церковь одна» за древний памятник, переведенный с греческого, едва ли не святоотеческое сочинение. «Покойный Д. А. Валуев, – пишет он Ю. Ф. Самарину, – нашел греческую рукопись (кем писанную, греком или другим каким православным, неизвестно), содержащую в себе изложение Православного учения, и вез ее в чужие края с намерением напечатать, находя ее весьма замечательною. К ней приделал он маленькое предисловие по-латыни, и вся рукопись составила бы около двух печатных листов. Мы, то есть здешние друзья Валуева, желали бы исполнить его намерение и напечатать рукопись, которая в России может встретить цензурные затруднения, а в Германии может или принести пользу, или по крайней мере обратить на себя внимание»[144].
Втянут был в эту мистификацию, сам того не ведая, и В. А. Жуковский[145], писавший Хомякову в 1847 году из Баден-Бадена: «Я только вчера получил от Вяземского, а он от Попова, рукопись, еще не принялся за чтение, начну его после Нового года. Но что же Вы будете с нею делать? Я все стою на том, что надо ее перевести на немецкий (а не на французский) язык и напечатать в Германии. Теперь именно та минута, в которую она здесь произведет великое действие»[146].
Нет сомнений, что задуманная А. С. Хомяковым мистификация, вскоре, разумеется, раскрывшаяся, явилась бы для А. В. Никитенко еще одним доводом в пользу мнения, что он «себе на уме». А если присмотреться к его богословским утверждениям, то можно заметить, что по отдельным принципиальным вопросам они порой не вполне согласуются между собой[147].
Что же касается графини, то при ее жизни Н. В. Сушков однажды посетовал на раздражительность и ожесточение своей племянницы, но позднее говорил совсем о другом: «В ней не было лукавства; откровенна и доверчива, как дитя, она не только прощала, но совершенно забывала обиды, которые в первую минуту сильно волновали женщину-поэта»[148].
Тем не менее графиня тоже не была чужда тяги к эксцентричности, хотя и безо всякой идеологической подоплеки, так сказать, из любви к искусству. Вот что пишет в своих воспоминаниях Николай Васильевич Берг (1823–1884), посетивший поэтессу в подмосковном Вороново:
В первый же день, как все обитатели дома и граф сошлись в обеденную залу и сели за стол, гостей поразило следующее зрелище: со двора, по широким каменным ступеням лестницы, поднимались две лошади, без всякой сбруи и уздечек, осторожно вошли в комнату и стали рядом позади графини, как бы два ее лакея. Несмотря на то, что все комнаты в доме были громадны, большие лошади, на полной свободе разгуливавшие там, не казались… собачками. Каждого, не привыкшего к таким явлениям, к таким затеям русских бар, брал невольный страх, как бы эти странные «лакеи» не разыгрались, не вздумали скакать, бегать, не поломали бы мебели, пола и еще чего-нибудь.
Графиня давала им хлеба, трепала и гладила их по голове и шее. После обеда, когда все встали, лошадям было поставлено на двух стульях какое-то кушанье в тарелках. Одна ухватила нечаянно за край, и он отлетел.
Потом лошади стали ходить по всему дому и, воротившись в обеденную залу, точно так же осторожно спустились с лестницы, как взошли. Только одна не выдержала характера: когда осталось всего две-три ступеньки, – прыгнула на двор и при этом вышибла задней ногой из лестницы половицу[149].
О другой затее графини, уже не столь невинной, рассказывает А. Д. Галахов со слов Н. Ф. Щербины, посещавшего ее литературные вечера: «Скука одолевала присутствующих, но не дождаться конца чтению было невежливо. Щербина решился прибегнуть к хитрости: он начал садиться у двери, ближайшей к выходу, чтобы, улучив добрый момент, скрыться незаметно. Раза три стратагема удавалась, но потом хозяйка заметила ее и приняла свои меры: она клала бульдогов у обеих половин выходной двери. Как только Щербина привставал, намереваясь дать тягу, так бульдоги начинали глухо рычать и усаживали его снова в кресло»[150].
Таким образом, «кафтан-святославку» и «шапку-мурмулку» Хомякова есть с чем сопоставить в арсенале графини Ростопчиной.